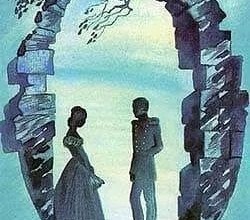- Михаил Лермонтов ~ Слышу ли голос твой (+ Анализ) - 14.10.2025
- Михаил Лермонтов ~ Как небеса твой взор блистает… (+ Анализ) - 14.10.2025
- Михаил Лермонтов ~ Она поёт – и звуки тают… (+ Анализ) - 14.10.2025

«Ветка Палестины»
Михаил Лермонтов
Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?
У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?
Молитву ль тихую читали
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?
И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?
Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы…
Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?
Иль божьей рати лучший воин
Он был, с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?
Заботой тайною хранима
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой.
Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой…
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.
Год написания: Февраль 1837 г.
Прежде чем читать стих «Ветка Палестины» Лермонтова Михаила Юрьевича, стоит ознакомиться с историей его написания. Создано стихотворение предположительно в 1837 году (относительно точной даты есть разногласия). Считается, что поэтические строки были написаны автором во время внезапного вдохновения под впечатлением от увиденной в доме знакомого пальмовой ветви. Насколько это соответствует действительности, сейчас судить сложно.
Произведение совершенно не создаёт впечатление созданного в спешке и невычитанного. Одно не вызывает сомнения – название точно отражает центральный образ стихотворения и указывает на использование библейских мотивов. Автор обращается к ветви, как к живому существу, способному поведать историю своего появления. В виде вопросов он описывает возможные варианты. Однако точный ответ остаётся неизвестным. Поэт утверждает лишь то, что ветвь, причисленная к святым символам, способна наполнять миром и отрадой.
Анализ стихотворения Лермонтова «Ветка Палестины»
Точный год создания «Ветки Палестины» неизвестен. По свидетельству писателя Андрея Николаевича Муравьева, Лермонтов сочинил стихотворение у него в квартире в феврале 1837 года. Михаил Юрьевич приезжал к нему перед арестом, когда расследование по делу о «Смерти поэта» только началось. Лермонтову пришлось долго ждать Муравьева. В образной он увидел пальмовые ветви, привезенные Андреем Николаевичем из путешествий по Востоку. Молодого поэта охватило вдохновение, в короткое время было написано стихотворение «Ветка Палестины». Впервые его напечатал журнал «Отечественные записки» в 1839-ом. В книге «Описание предметов древностей и святыни, собранных путешественником по святым местам» Муравьев датировал «Ветку Палестины» 1836 годом. Скорей всего, ошибочно. В воспоминаниях Акима Павловича Шан-Гирея говорится, что стихотворение имеет непосредственное отношение к Андрею Николаевичу и что он подарил пальмовую ветку Лермонтову. Михаил Юрьевич очень ей дорожил и хранил в «ящике под стеклом».
Образная система «Ветки Палестины» соотносится с христианской новозаветной мифологией. Христа, въезжающего в Иерусалим, люди встречали восклицанием «осанна!» и пальмовыми ветвями. В «чистых водах Иордана» Спаситель проходил священный обряд крещения. С «миром и отрадой» связаны евангельские представления о спасении и прощении. Не случайно возникает и «божей рати лучший воин». Он характеризуется твердостью в вере, духовной непреклонностью, способностью стойко переносить страдания.
«Ветка Палестины» явно соотносится с Пушкинским стихотворением «Цветок», датированным 1828 годом. Оба произведения строятся на том, что лирические герои видят засохшее растение. В одном случае вопросы задаются пальмовой ветви, в другом – цветку, обнаруженному между страниц книги. Стихотворение Лермонтова также связано с некоторыми строками из «Бахчисарайского фонтана» (1821-23). Обратите внимание на образ Марии, созданный Пушкиным:
Лампады свет уединенный,
Кивот, печально озаренный,
Пречистой девы кроткий лик
И крест, любви символ священный…
Перед читателем предстает твердая в вере, чистая душой девушка. Теперь сравним со строками из «Ветки Палестины»:
Призрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой…
Традиционно в русской поэзии обращение к восточным темам связано с декларацией стойкости и мужественности персонажей. Если Пушкин превозносит Марию, то Лермонтов идеал героя воплощает в образе пальмовой ветви.
Рецензия на стихотворение «Ветка Палестины» Лермонтова
Впервые напечатанное в журнале «Отечественные записки» в 1839 г., стихотворение Михаила Лермонтова «Ветка Палестины» до сих пор остается загадкой для исследователей с точки зрения истинной даты создания. Одни утверждают, что оно было написано в 1836 году, другие, что в 1837 г. Михаил Лермонтов использует в стихотворении вдохновляющий образ пальмовой ветви, которую ему подарил А.Н. Муравьев. Сначала автор посвятил свое стихотворение А.Н. Муравьеву, другу по писательским кругам, который помогал опальному поэту избежать наказания. В дальнейшем посвящение было убрано.
Ветвь – это символ веры. Идея для стихотворения была почерпнута из христианской мифологии. Об этом свидетельствуют образы, которые автор использует в больших количествах: «Воды чистые Иордана», «Молитву ль тихую читали», «Все полно мира и отрады».
Произведение пропитано темой спасения и прощения, близкими самому поэту. Но трагичность мысли Лермонтова заключается в том, что счастливый финал маловероятен.
Первые строки стихотворения задают настроение всему произведению, которое построено на приемах риторических вопрошаний и повелительных наклонений: «И пальма та жива ль поныне?», «Кто в этот край тебя занес?», «Поведай: набожной рукою». Такая специфика стихосложения отсылает к медитативной мелодике стихов Жуковского и Пушкина, с двумя стихотворениями которого сильно перекликается «Ветка Палестины». Это «Цветок» и «Бахчисарайский фонтан».
С первым его связывает дух исканий. И там, и там герои обращаются к засохшим цветам, которые несут в себе отпечаток личностей самих авторов. Ветвь и пальма символизируют любящих людей, тоскующих в разлуке, а так же разобщенные части одной души, некую оторванность от родного дома (от самого себя). Такие чувства приходится переживать неугодному властям автору. И одновременно с этим поэт перенимает несгибаемость христианского духа: «Заботой тайною хранима», «Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой».
С «Бахчисарайским фонтаном» перекликается целая строфа, где перед читателем предстает твердая в вере и чистая душой девушка:
«Лампады свет уединенный,
Кивот, печально озаренный,
Пречистой девы кроткий лик
И крест, любви символ священный…»
А.С. Пушкин
Мифологизм стихотворения сочетается с романтизмом и идеализацией, что делает его отражением глубоко личного переживания автора, складываясь в исповедь.
Примечание — Ветка Палестины
Впервые опубликовано в 1839 г. в «Отечественных записках» (т. 3, № 5, отд. III, с. 275 — 276).
Автограф не сохранился.
В сборнике 1840 г. «Стихотворения М. Лермонтова» датировано 1836 г.
Писатель А. Н. Муравьев (1806 — 1874), которому вначале посвящено было стихотворение (о чем свидетельствует зачеркнутая помета в копии), утверждает в своих воспоминаниях (А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871), что «Ветка Палестины» была написана у него на квартире в феврале 1837 г., перед арестом Лермонтова, когда тот приезжал к нему в связи с начавшимся следствием по делу о стихотворении «Смерть Поэта». По свидетельству А. П. Шан-Гирея, «пальмовую, искусно сплетенную ветку Палестины» Муравьев привез из своих путешествий «ко святым местам» (Русское обозрение, 1890, т. 4, № 8, с. 747). При виде этой ветки перед образами в доме Муравьева Лермонтов «по внезапному вдохновению» записал стихотворение на том же листке, где он набросал и записку хозяину дома (см.: Воспоминания, с. 197).
Существует и еще одно свидетельство того же А. Н. Муравьева относительно создания стихотворения; оно не связывается с событиями 1837 г., и текст датируется 1836 г. (см.: Описания предметов древности и святыни, собранных путешественником по святым местам. Киев, 1872).
В настоящее время нет оснований отдать предпочтение той или иной версии; традиционно печатается в рубрике 1837 г.
Солим — Иерусалим.
Последняя строфа сходна со следующими стихами из поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан»:
Лампады свет уединенный,
Кивот, печально озаренный,
Пречистой девы кроткий лик
И крест, любви символ священный.
В литературе указывалось также на параллелизм образов, интонаций и отдельных строк данного стихотворения и стихотворения Пушкина «Цветок» (напечатано в 1829 г.).